

Главное меню
Вы здесь
Бери, да помни
В тени свежесметанного стога хлебаем суп с курицей. Курица хотела снестись в котле с гудроном. Гудрон от тепла размяк — ноги увязли, и курица попала в суп. Обгладываем косточки, ломаем с дедом дужку. Он уже два раза меня подлавливал, но теперь я начеку. Надо ему дать что-нибудь неожиданно и сказать: «Бери, да помни». Тогда-то он никуда не денется, и я пойду на охоту, может быть, даже подстрелю волка. Не спускаю глаз с дедушки, но никак не могу выбрать момента. Он собирает кости в чашку, ворчит на Бобку:
— У, жиган! Куда носом-то в чашку,— протягивает мне,— вытряхни под куст... Бери, да помни.
Обидно до слез.
— Ума-то, что у малого, то и у старого,— бабушка прибирает «со стола»,— далась тебе эта дужка.
— Пусть привыкает. В школу скоро пойдет — по старым временам бороноволок.
Ерошит мне голову.
— Задолжал, выходит? — откидывается и дремлет.
Какое же будет у дедушки желание? А ну-ка ночью на сеновал пошлет? Или на конюшню, а там домовой Рыжке гриву заплетать начнет. Рыжка будет храпеть, и биться, пока пена с него не станет падать. Тормошу дедушку.
— Что? - поднимает он голову.— А-а... Станешь деньги зарабатывать, так сапоги мне и купишь.
Дедушке ноги ломает «рематизма проклятая», и хорошие кожаные сапоги — его давняя мечта.
— Кабы золота комышек найти, тогда бы зажили.— Бабушка кладет ложки в котел.
— А что бы купили? — любопытствую.
— Нашли бы чего.— И загибает пальцы: — Пяток бы ярок, корову — Зорька старая стала, шубу мне, сапоги деду, тебе валенки,— и больше ничего придумать не может.
Беру ведро, в котором поим Рыжку, и бегу на Березовку. Набираю песку, полощу его, черпаю горстями, вглядываюсь— не пропустить бы золота. Нет, не блестит — и откидываю. Перебрал три ведра — фарту не было.
Много в Березовке утекло воды с тех пор. Давно не ищу в ведре самородков. Но память чем дальше, тем чаще возвращает в прошлое.
После долгой отлучки иду на Березовку. Поскрипывают ремни, блестят сапоги, лихо сидит фуражка с «крабом», у лацкана «крылышки» — волшебный ключ от небесных ворот.
Снегу еще нет, но в колее лед. Ручьи высветлились. Качает водой ветку калины, кровавая кисть обмерзла и ослепительно играет сосульками на солнце, пахнет едва уловимой холодной пряностью осеннего тлена. В мшистой тишине: фьюи-фьюи-фыоть... Щуры клюют калину, роняют капельки-звуки: фьюи-фьюи-фьють...
А вот и дом. Лает Тайга. Лай неуверенный. В дремучих глазах вдруг искра — узнала: молотит хвостом, уши прижала, повизгивает.
Дедушка в проеме:
— О-о! Вася приехал...
Колобком скатывается с крыльца бабушка:
— Васенька, милый ты мой, кормилец,— суется мягким носом.
Кормилец, к слову. Никто их не кормил до последнего часа. И у самого начинает рябить в глазах. Поднимаюсь, захожу в сени, здесь по-прежнему пахнет зверобоем и душицей.
Настает время развязывать мешок. Достаю . дедушке гравированный, с золотой насечкой портсигар с рубиновым камешком-кнопкой, а бабушке — кусок панбархата.
— На ково это мне? Ково я с им делать стану? — А сама прикидывает к груди, глаза блестят — рада.
И дедушка рад — заскорузлым, плохо гнущимся пальцем открывает, достает дорогую папиросу, нюхает и кладет обратно. Щелчок как бы добавляет массивности подарку и доставляет особое удовольствие.
Я где-то начинаю ощущать, что вещи эти тут не нужны, и радуются старики не им, а тому, что не забыты, не обойдены вниманием. И от того, что доставил им приятное, испытываю волнующую радость.
— Летшиком ведь он у нас стал! Ах...
— Хотела квашонку завесть, так будто нечистый под руку толкнул. Теперь уж раньше вечера не поспеет пирог. Ты, старый, петуха того, с голой шеей, заколи, да натаскай воды в баню, да веник с голубницы добудь.
— Какой петух, он уж в горы глядит,— смеется дедушка.
— Неужто побежишь? — огорчается бабушка.
— Надо бы...
— К вечеру-то воротишься? .
— Как выйдет.
Бабушка вздыхает:
— Завтра, гляди, не припоздайся, баня к обеду поспеет, чтобы не выстыла.
В чулане вынимаю из посылочного ящика одежду для охоты, которая хранится тут постоянно. Достаю ружье из чехла, собираю и вешаю в комнате на лосиный рог. Бабушка готовит еду, дедушка улыбается:
— Ты ему петуха с собой положь, в рябчика теперь не попадет, отвык.
Сбор волнует. Рисуется дорога, места, по которым пойду, какую увижу дичь. Тайга учуяла сборы — запах ружья ей хорошо знаком — поскуливает.
Через Березовую гору направляюсь в верховья Багруша. Вдали срываются тетерева — птицы глуповатые, но осторожные. В ельнике собака взлаивает на рябчиков, гонится за зайцем, возвращается, высунув язык, глядит: правильно ли, дескать, делаю — и снова скрывается.
Я не был тут два года. На склонах там и сям вырублен лес. Под топор, скорее всего, попадает сосна, и глухарь уходит с обжитых токовищ. По ключам спускаюсь в Урен-гинку, вытекающую из болота, по ней — к поселку, от которого осталось три жилых дома.
Здесь когда-то процветал промысел живицы, но неподсеченной сосны не осталось, и добыча сошла на нет. Из крайнего дома старуха Марья, днем единственная тут, позвала чай пить. Меня же манило дальше, скорее нагрузить усталостью тело.
Марье, очевидно, хотелось узнать новости от знакомого (она знала нашу семью). Одичавшая от тишины и безлюдья, она долго глядела вслед. И я пожалел, что не уважил старуху.
Ночевать остановился на склоне горы. Под прикрытием каменных выходов развел костер, очередил для похлебки рябчика. Собака набегалась, лежит, глядит на огонь дремотно. Давно забытое ощущение оторванности снова вернулось. И мир с турбинным ревом, кислородной маской, пахнущей резиной, номером в гостинице и жидким шоколадом на завтрак стал казаться пришедшим во сне. Действительность же — костер, нависшая глыба скалы над головой, шум сосен, запах дичи в кипящем котле. Здесь все не так. Даже опрокинутый ковш Большой Медведицы над вершиной горы совсем не тот.
Вспышки костра пляшут на камнях. Кажется, лежу у входа в пещеру, а сам я — пещерный человек. Ноги гудет радостной усталостью, тело распустилось в блаженной истоме, и все во мне унялось — спешить дальше некуда. Мысли успокоились, желания уснули, но шевельнулась печаль; внутренняя тишина ненадежна, скоротечна. Потому что есть другая тишина и другая ночь, где не дремлет дежурное звено. Где на прогазовочной полосе едва проступают белесо веретенообразные тела самолетов. А в летном домике кошка Мотька научилась безошибочно определять сигнал тревоги. По нему Мотька выскакивает, подняв хвост. А потом сидит на краю полосы, пока не дадут отбой... Печально оттого, что жизнь завертела, как собаку в колесо, и не отпустит, что иной ритм для меня теперь невозможен. Да и сам я, наверное, не смогу долго прожить в лесу, отдаться ему — часть меня навсегда осталась там, среди турбинного рева.
Возвращаемся умаянные. Тайга бредет сзади. А дома уж все готово и ждут, самовар на столе. Баня натоплена, веник заварен.
Баня. Кажется, она была, прежде всего, всегда с ее антрацитовым блеском стен, скобленым полком, запахом дыма, березового листа и жара. И благодатная прохлада сквозь бабушкину руку, и приговор: «С гусенка вода, с беденка вода, с младенца Василья — вся худоба».
Паримся с передыхом, в три захода.
— Поддать? — Дедушка перекидывает веник с руки на руку.
Меня и без того коробит, как бересту на огне, но сдаваться невозможно.
—- Не замерзать же...
Волосы трещат на затылке, а деду хоть бы что, он люто гонит «рематизму проклятую».
Потом чай до бесконечности и разговоры.
Дужка у рябчика маленькая. Ломаемся. Вспоминаю вдруг, что привез ему алмаз резать стекло (помню, почему-то ему хотелось иметь не стеклорез, а алмаз). Дед тронут. Шепчу на ухо:
— Бери, да помни.
— Огудал! — хохочет.— Что же, отыгрывайся, твоя взяла.
Мне хочется сделать ему подарок по душе.
— Ничего мне не надо; все есть.
— Вот и просил бы сапоги,— вступает бабушка.— Куда ему деньги девать.
Я и вправду, не привыкнув к деньгам, иногда не знал, куда их употребить.
— Сапоги нешто яловые? — размышляет дедушка.— Не терпят ноги в резиновых.
Просьба мне кажется слишком скромной. Но сапоги, так сапоги. Я слышал, недалеко от гарнизона хорошо шили на заказ.
— Давай снимем мерку.
Это приводит дедушку в совершенный восторг. Он ставит ногу на лист, я очерчиваю контур, меряю взъем и рисую вид сбоку.
— На заказ, как генералу! — восторгается дед.
Дни утекают, как вода из пригоршни. И опять Березовка —- родимый край мой — отходит на задний план, вспоминается реже.
Переучиваемся. По горло теории. На стоянке ходим вокруг нового самолета, обживаем кабину, на тренаже отрабатываем «слепую» посадку. Наконец, провозные, разбор полетов, предполетная подготовка, опять полеты. Сапоги дедушке подождут, успею.
Телеграмма: дедушка умер. Вышел напоить скотину, схватился за бок — и готов. Так я и не выполнил единственной его просьбы.
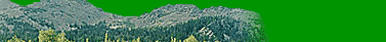


Комментарии
И ломалки тоже с отцом были - 50/50 - его желание - чтобы учился хорошо. я же требовал велосипед. Эх...
.